2.1.2. «Зимняя ночь»
| 1. |
Мело, мело по всей земле Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела. |
| 2. |
Как летом роем мошкара Летит на пламя, Слетались хлопья со двора К оконной раме. |
| 3. |
Метель лепила на стекле Кружки и стрелы. Свеча горела на столе, Свеча горела. |
| 4. |
На озаренный потолок Ложились тени, Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья. |
| 5. |
И падали два башмачка Со стуком на пол. И воск слезами с ночника На платье капал. |
| 6. |
И все терялось в снежной мгле, Седой и белой. Свеча горела на столе, Свеча горела. |
| 7. |
На свечку дуло из угла, И жар соблазна Вздымал, как ангел, два крыла Крестообразно. |
| 8. |
Мело весь месяц в феврале, И то и дело Свеча горела на столе, Свеча горела. |
Сюжетно-мотивная структура стихотворения «Зимняя ночь» довольно проста. В первых трех строфах намечается и закрепляется стержневая оппозиция «метель—свеча». В сюжете, порождаемом противостоянием этих контекстуальных антонимов, доминирует не событийный (предметно-ситуативный), а суггестивный (ассоциативно-символический) план. 1‑й и 2‑й стих 1-й строфы — поэтическое обобщение, превращающее реальную февральскую метель в символ всеобъемлющей зимней стихии:
Мело, мело по всей земле
Во все пределы…
Троп 2‑й строфы — несколько неожиданное в данном контексте ассоциативно-метафорическое уподобление снега (метельных «хлопьев») летней «мошкаре»:
Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.
Но «летнее» сравнение неожиданно лишь на первый взгляд. В содержательном плане это «нисходящая» метафора. Кажущаяся абсолютной и вечной власть метели (=холода/смерти/зла) в действительности не абсолютна и совсем не вечна: в конце концов ее уничтожит противостоящий ей огонь (=тепло/жизнь/добро). Те знаки, которые просматриваются в морозных узорах («Метель лепила на стекле / Кружки и стрелы…» — 3‑я строфа), по-видимому, восходят к архетипической символике солнечного света и в силу этого могут рассматриваться как предзнаменования грядущего поражения метели, т. е. как своеобразный иконический парафраз ветхозаветного «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН» — пророческих слов, «исчисливших» царство Валтасара и установивших предел его царствованию (Дан., 5: 5—28).
Начиная со следующей, 4‑й строфы (и до конца стихотворения) внимание «лирического автора» будет поочередно фокусироваться на происходящем в комнате (посредством ряда предметных ассоциаций), а затем вновь устремляться в безграничное метельное пространство:
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.
И все терялось в снежной мгле,
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Огонь (пламя) свечи порождает «скрещенья» теней/судьбы. Без сомнения, этот образ-символ следует считать стержневым. В 7‑й строфе он вариативно трансформируется в «жар соблазна», в свою очередь, уподобляемый ангелу, фигура которого (с поднятыми крыльями) напоминает очертания креста:
На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.
Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела (IV, 533—534).
Крест (корень слов «скрещенье» и «крестообразно») возникает здесь не случайно — он замыкает сюжеторазвертывающую ассоциативно-метафорическую цепь:
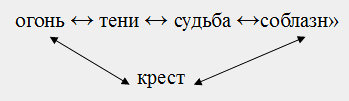
«Скрещенье судеб» героя и героини — это их крест, т. е. судьба в высоком, трагическом ее осмыслении. А. Лилеева совершенно справедливо замечает в этой связи: «В христианской традиции крест — символ страдания и святости. Это позволяет выделить в словах “скрещенье”, “крестообразно” не только сему физической близости мужчины и женщины, но и скрытую сему святости. Любовь, страсть в стихотворении Пастернака — это не только скрещенье тел и судеб, но и страдание, которое приносит искупление и спасение»[70].
Так же, как «Гамлет» и «На Страстной», стихотворение «Зимняя ночь» оказывается своеобразным предвестником евангельского (под)цикла. Особенно наглядно это проявляется при сопоставлении «Зимней ночи» с «Рождественской звездой». Сближает их «зимняя» тема, непосредственно связанная с особенностями ассоциативной памяти и творческого мировосприятия «лирического автора», героя романа (об этом см. § 2.3.1), и перерастающая в символику противостояния ветра—огня (жизни—смерти). Ср.:
Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.
Земной «теплой дымке» соответствует «неведомая перед тем» звезда в «небе над кладбищем». Характерно, что свет новой звезды сначала почти незаметен и сравнивается со слабым светом, мерцающим в окне (метафорический «отзвук» горящей на столе свечи):
…Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда на пути в Вифлеем (IV, 537).
«Сторожка» — продолжение ряда анахронических в новозаветном контексте «Рождественской звезды» бытовых и «пейзажных» подробностей («…поле в снегу и погост, / Ограды, надгробья, / Оглобля в сугробе…» и т. д.), свидетельствующих о том, что действие стихотворения происходит не столько в истории, сколько в метаистории, в вечности. Хронотоп вечности подразумевает, что и евангельские события, и вся последующая, предопределяемая ими история человечества («Все мысли веков, все мечты, все миры…»), и принадлежащая экзистенциальному времени «быль отдельного лица», т. е. принципиально различные событийные цепи, могут пересечься друг с другом так, что некоторые их звенья окажутся в одной пространственно-(вне)временной точке. В «Рождественской звезде» именно это и происходит. То, что поначалу воспринимается как событийная аппликация или сюжетно-хронотопический коллаж (библейский и общеисторический сюжеты, развертывающиеся на русском зимнем пейзажном фоне), в действительности являет собой хронотопическое единство.
Нечто подобное наблюдается и в «Зимней ночи». Сюжет и хронотоп этого стихотворения строятся на максимальном сближении и частичном взаимопроникновении двух сюжетных и пространственно-временных планов. Один из них тесно связан с фабулой прозаического повествования, т. е. с художественной действительностью, жизнью героев, второй — с выявлением скрытого символизма этой жизни, осуществляемого в стихотворениях евангельского (под)цикла, завершающего поэтическую часть романа. Сближение и взаимопроникновение происходит не столько по пространственно-временным осям («настоящее↔будущее»), сколько по третьей оси — бытийной («бытие↔инобытие»), задействованной в другой, гораздо более сложной системе координат, пространственно-(вне)временных и (ино)бытийных, создаваемой соотношением прозаических и поэтической частей «Доктора Живаго». Если, схематически упрощая, определить функциональный смысл «Зимней ночи» как части романного целого, четко обозначатся два аналитических контекста и, соответственно, два вектора композиционно-сюжетной взаимосвязи — «прозаический» (ряд фрагментов прозаического текста, в которых фигурирует горящая свеча) и внутрицикловый (предшествующие и последующие стихотворения живаговской тетради).
Сюжетная динамика и архитектоника пастернаковского романа «зиждется на сюжетных узлах, образуемых случайными встречами и совпадениями» (А. Лавров)[71]. Зачастую именно «случайное обретает в нем статус высшей и торжествующей закономерности»[72]. Одним из таких сюжетных «узлов» становится 9‑я глава части 3‑й («Елка у Свентицких») — сцена встречи Лары Гишар и Паши Антипова:
«Лара любила разговаривать в полумраке при зажженных свечах. Паша всегда держал для нее их нераспечатанную пачку. Он сменил огарок в подсвечнике на новую целую свечу, поставил на подоконник и зажег ее. Пламя захлебнулось стеарином, постреляло во все стороны трескучими звездочками и заострилось стрелкой. Комната наполнилась ярким светом. Во льду оконного стекла на уровне свечи стал протаивать черный глазок» (IV, 79).
В следующей, 10‑й главе говорится о том, как Юра и Тоня едут в извозчичьих санях на елку к Свентицким:
«Они проезжали по Камергерскому. Юра обратил внимание на черную протаявшую скважину в ледяном наросте одного из окон. Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало.
“Свеча горела на столе. Свеча горела…” — шептал Юра про себя начало чего-то смутного, неоформившегося, в надежде, что продолжение придет само собой без принуждения. Оно не приходило» (IV, 82).
Существует предположение, «что стихотворение “Зимняя ночь” — первое стихотворение Юрия Живаго, а значит, мы присутствуем при рождении поэта»[73]. Предположение это интересно и в общем соответствует духу романа, его символике. Так вполне могло быть — хотя бы потому, что действие вышеупомянутых 9-й и 10-й глав части 3‑й происходит в канун светлого праздника Рождества Христова. Но, судя по всему, стихи Юрий Живаго начал писать немного раньше. Во 2‑й главе той же части говорится, что он
«…еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний <…>. Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделывался вместо нее написанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине» (IV, 66—67).
Как бы то ни было, «Зимняя ночь» — одно из первых стихотворений Юрия Живаго; возможно, первое настоящее его стихотворение (и тогда мы действительно в каком-то смысле наблюдаем «рождение» поэта); но в цикле оно пятнадцатое по счету и следует непосредственно за «Августом».
Свеча — символ-лейтмотив, подлинное значение которого раскрывается только в 17‑й, поэтической части «Доктора Живаго». Однако уже в 14‑й части романа («Опять в Варыкине») есть эпизод, где эта потенциальная многозначность начинает проявляться:
«Лампа горела ярко и приветливо, по-прежнему. Но больше ему не писалось. Он не мог успокоиться. <…> В это время проснулась Лара.
— А ты все горишь и теплишься, свечечка моя ярая! — <…> сказала она» (IV, 436).

На эти слова Лары, обращенные к Юрию Андреевичу, можно было бы и не обратить внимания, если бы не ассоциативно-архетипический подтекст. Горящая свеча уподобляется человеческой жизни, всецело отданной истинному искусству («творчеству и чудотворству»). Истинное искусство, в свою очередь, неотделимо от стремления к истине (=свету) и тайному, освобождающему душу и преображающему мир знанию (=вере). Ср.: «…зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Нагорная проповедь — Мф., 5: 15).
Интересно, однако, что свеча не всегда соотносится в романе с образом главного героя. В 5‑й главе части 5‑й («Прощанье со старым») доктора знакомят с комиссаром Временного правительства Гинцем:
«…Это был тоненький и стройный, совсем еще не оперившийся юноша, который, как свечечка, горел самыми высшими идеалами» (IV, 137).
Сравнение «…как свечечка, горел самыми высшими идеалами», несмотря на его основной, сугубо положительный интенциональный заряд, не лишено иронии. В дальнейшем, в описании высокопарных речей и театральных жестов Гинца (который наивно воображает себя опытным, чуть циничным политиком и пламенным оратором), иронические ноты начинают преобладать. Кажется, лишь сцена трагической и нелепой гибели юноши (глава 10‑я той же части) возвращает читателя к исходному значению лексемы «свечечка», обогащая ее новыми — уже совсем не ироническими — смысловыми коннотациями, относящимися одновременно к предметной и инобытийной сторонам метафорического уподобления горящей свечи жизни человека (‘хрупкость/недолговечность’ = ‘бренность существования’).
В 14‑й главе части 5‑й Юрий Андреевич случайно знакомится с другим эпизодическим персонажем романа, анархистом Клинцовым-Погоревших:
«Купе, куда вошел Живаго, ярко освещалось оплывшею свечой на столике, пламя которой колыхала струя воздуха из приспущенного окна.
Свеча принадлежала единственному пассажиру в купе (т. е. Клинцову. — А. В.)» (IV, 157).
Максим Аристархович Клинцов-Погоревших — фигура более сложная. Это «философ», хотя философия его, как иронически подмечает Живаго, наполовину состоит «из положений анархизма, а наполовину из чистого охотничьего вранья» (IV, 163). Но это и «практик»: у него была точка «приложения сил» — Зыбушинская республика-коммуна, которую он создал вместе с сектантом Блажейко. Республика эта не признала власти Временного правительства и даже «отделилась от остальной России» (IV, 132). За две недели, пока она существовала, правда о зыбушинском идеологе успела обрасти «небылицами», наделившими его образ чертами народной русской святости/юродства: «Утверждали, будто это глухонемой от рождения, под влиянием вдохновения обретающий дар слова и по истечении озарения его снова теряющий» (IV, 133)[74]. Нетрудно заметить, что вторая половина двойной фамилии героя — «Погоревших» — подчеркнуто говорящая: ее символика создается как двойным смыслом глагола «погореть» (‘сгореть’ и ‘потерпеть неудачу, крах’), так и предметно-суггестивным коррелятом этого глагола — «оплывшей» (=догорающей) свечой.
Горящая свеча фигурирует также в ряде эпизодов, в которых пересекаются сюжетно-фабульные линии Юрия Живаго и комиссара Стрельникова.
Если Гинц и Клинцов-Погоревших — образы трагикомические, гротескные, то Павел Павлович Антипов-Стрельников — образ глубоко трагический. Беспартийный «военспец», всего себя отдавший искреннему, бескорыстному и фанатичному служению Революции, во имя Идеи отрекшийся от собственного имени, Стрельников становится пленником этой Идеи, «мучеником до́гмата» и, в конце концов, одной из бесчисленных «жертв века»… В соотнесении с этим персонажем рассматриваемый нами лейтмотив начинает звучать как бы в несколько иной смысловой тональности, которая задается темами возмездия, искупления. Это темы, связанные с судьбой любимой женщины (некогда соблазненной Комаровским Лары Гишар) и — по индивидуальной, сначала неосознанной, а затем сознательно акцентируемой Антиповым символической ассоциации — с пред- и послереволюционным периодами истории России. Впервые свеча, как мы помним, появляется в главе 9‑й части 3‑й, где говорится об одной из первых встреч Лары Гишар и Паши Антипова. Интересно, что в описании пламени использованы слова, имеющие общий корень –стрел‑ («…постреляло во все стороны <…> и заострилось стрелкой»). Совокупная семантика этих слов, дополнительно усиливаемая глаголом «заострилось» (содержащим, кстати, тот же знаковый аллитерационный набор — два глухих и два сонорных звука — стрл), отсылает не столько даже к поэтическим «кружкам и стрелам», которые «лепит» на стекле метель, столько к будущему революционному имени (псевдониму) Антипова — «Стрельников». Истинный смысл этой странной на первый взгляд отсылки проясняется в главах 16‑й и 17‑й части 14‑й («Опять в Варыкине»), представляющих сцену последней встречи Живаго и Стрельникова.
Вслушаемся в страстный, убежденный монолог-исповедь некогда всесильного комиссара — затравленного, скрывающегося и уже, по-видимому, принявшего решение самому поставить точку в своей судьбе:
«—…Послушайте. Смеркается. Приближается час, которого я не люблю, потому что давно уже потерял сон. <…> Если вы спалили еще не все мои свечи — прекрасные, стеариновые, не правда ли? — давайте поговорим еще чуть-чуть. Давайте поговорим, сколько вы будете в состоянии, со всею роскошью, ночь напролет, при горящих свечах» (IV, 457).
Стрельников не хочет возврата к прошлому: это уже невозможно, и он не питает на этот счет никаких иллюзий. Он стремится, воскресив тот памятный вечер, слить воедино две своих ипостаси, воссоединить, пусть на миг, прошлое и настоящее, то, из чего складывалась его жизнь, навсегда разделенная, расколотая надвое Революцией и Гражданской войной. От «общественных» тем герой вдруг переходит к темам «личным», от уничтожающей критики ненавидимого им социального зла — к окрашенным в светлые лирические тона воспоминаниям:
«…Грязь, теснота, нищета, поругание человека в труженике, поругание женщины. <…> Какое олимпийство тунеядцев, замечательных только тем, что они ничем себя не утрудили, ничего не искали, ничего миру не дали и не оставили! <…>
<…> Публицисты ломали голову, как обуздать животную беззастенчивость денег и поднять и отстоять человеческое достоинство бедняка. Явился марксизм. Он усмотрел, в чем корень зла <…>. Он стал могучей силой века. Все это были Тверские-Ямские века, и грязь, и сияние святости, и разврат, и рабочие кварталы, прокламации и баррикады.
Ах, как хороша она была девочкой, гимназисткой! Вы понятия не имеете…» (IV, 457—458).
Переход кажется немотивированным, спонтанным. В действительности, однако, перед нами лишь внешний — лексический и интонационный — контраст. Это выясняется тогда, когда все тематические линии монолога стягиваются в один ассоциативный узел-контрапункт:
«…Она была девочкой, ребенком, а настороженную мысль, тревогу века уже можно было прочесть на ее лице, в ее глазах. Все темы времени, все его слезы и обиды, <…> вся его накопленная месть и гордость были написаны на ее лице и в ее осанке <…>. Обвинение веку можно было вынести от ее имени, ее устами» (IV, 459).
Кульминацией становятся слова о революционном движении. Рядом с исполинской фигурой Ленина, который «впитал в себя и обобщенно выразил собою» всё: «рабочее движение мира», «марксизм в парламентах и университетах Европы», «новую систему идей, новизну и быстроту умозаключений, насмешливость» и «во имя жалости выработанную вспомогательную безжалостность», — встает
«…неизгладимо огромный образ России, на глазах у всего мира вдруг запылавшей свечой искупления за все бездолье и невзгоды человечества» (IV, 459).
План выражения в сравнении ‘Россия — «свеча искупления»’, пожалуй, не менее сложен и «метафоричен», чем план содержания. В нем преломляются глубоко личные, субъективно-персонажные интенции и ассоциации, как «предметные» (свечи, которые любила зажигать Лара), так и «биографические» (судьбы Лары и самого Антипова, который «ради нее» «пошел в университет, <…> сделался учителем», «поглотил кучу книг и приобрел уйму знаний», а затем, пройдя войну и воспользовавшись тем, что его считали убитым, «под чужим вымышленным именем весь ушел в революцию, <…> чтобы отмыть начисто эти печальные воспоминания, <…> чтобы Тверских-Ямских больше не существовало» — IV, 459—460).
Символика свечи в «Докторе Живаго», как видим, включает в себя множество контекстуальных значений, актуализирующихся по мере развития сюжета прозаического повествования. Но в этом широком спектре вариативных проявлений образа, тяготеющих к различным, зачастую противоположным содержательно-смысловым и повествовательным планам, обнаруживается и концептуальная доминанта: она возвращает читателя к исходной метафоре «свеча↔жизнь/вера/“творчество и чудотворство”», неразрывно связанной с судьбой главного героя романа.
После смерти Юрия Андреевича, прощаясь с ним, Лариса Федоровна вспоминает:
«Ах, да ведь это на Рождестве, перед задуманным выстрелом в это страшилище пошлости (Комаровского. — А. В.), был разговор в темноте с Пашей-мальчиком в этой комнате, и Юры, с которым тут сейчас прощаются, тогда еще в ее жизни не было.
И она стала напрягать память, чтобы восстановить тот рождественский разговор с Пашенькой, но ничего не могла припомнить, кроме свечки, горевшей на подоконнике, и протаявшего около нее кружка в ледяной коре стекла.
Могла ли она думать, что лежащий тут на столе умерший видел этот глазок проездом с улицы и обратил на свечу внимание? Что с этого, увиденного снаружи пламени, — “Свеча горела на столе, свеча горела”, — пошло в его жизни его предназначение?
Ее мысли рассеялись. Она подумала: “Как жаль все-таки, что его не отпевают по-церковному! Погребальный обряд так величав и торжественен! <…>. А Юрочка такой благодарный повод! <…>”
И она ощутила волну гордости и облегчения, как всегда с ней бывало при мысли о Юрии и в недолгие промежутки жизни вблизи его. Веяние свободы и беззаботности, всегда исходившее от него, и сейчас охватило ее» (IV, 496).
«Прозаические» параллели, позволяющие реконструировать фабульную предысторию «Зимней ночи», разумеется, не охватывают всего спектра лейтмотивных смыслов, которые порождаются образом горящей свечи. В «Стихотворениях Юрия Живаго» свечи упоминаются еще три раза — в различных, но символически взаимосвязанных контекстах. В стихотворении «На Страстной» деревья
…видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд <…> (IV, 517).
В «Рождественской звезде» (стихотворении, уже упоминавшемся в данном разборе — см. выше) пастухи и волхвы, завороженные «странным виденьем грядущей поры», в котором «вставало вдали все пришедшее после», вдруг замечают
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры… (IV, 538).
Наконец, в «Дурных днях» свеча напрямую соотносится с евангельской тематикой, чудом воскрешения:
Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.
И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол,
И море, которым в тумане
Он к лодке, как посуху, шел.
И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешенный вставал… (IV, 544).
Итак, можно с уверенностью говорить о том, что этот проходящий через все повествование символ-лейтмотив дополнительно акцентирует структурно-смысловое единство прозаических и поэтической частей романа.
[70] Лилеева А. Г. Поэзия и проза в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» (Интерпретация стихотворения «Зимняя ночь») // Русская словесность. 1997. № 4. С. 35.
[71] Лавров А. В. «Судьбы скрещенья»… С. 242.
[72] Там же.
[73] Лилеева А. Г. Поэзия и проза в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»… С. 33.
[74] И. Смирнов не без оснований полагает, что Клинцов-Погоревших — не только «карикатура на анархиста», но и «автошарж»: изображая его, «Пастернак рассчитывался и со своим анархофутуристическим прошлым». «В этом освещении глухонемота Погоревших может быть сопряжена <…> с отсутствием абсолютного слуха у Пастернака», послужившего причиной краха «его композиторской карьеры». См.: Смирнов И. П. Роман тайн «Доктор Живаго». С. 146, 147, 148 и след.
 [в формате PDF, 1,08 МБ] →
[в формате PDF, 1,08 МБ] →
Комментариев: 0